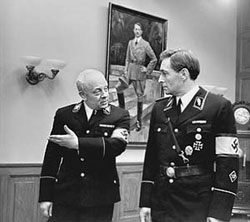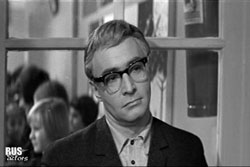Эксклюзив Дмитрия Гордона, февраль 2008г.
Вячеслав ТИХОНОВ: «НАД АНЕКДОТАМИ ПРО ШТИРЛИЦА Я НЕ СМЕЯЛСЯ»
8 февраля всенародно
любимому артисту исполняется 80 лет ![]()
По традиции
свой юбилей Вячеслав Тихонов отметит в узком семейном кругу: дочь с мужем,
внуки-близнецы и вторая его супруга Тамара Ивановна соберутся в доме на Николиной Горе, где
известный актер живет затворником. Сегодня его кирпичная
двухэтажная дача, которая четверть века назад выглядела вполне добротно,
затерялась среди новорусских особняков: разве что
установленный во дворе столб с указателями «Павловский Посад — 98», «Пеньково — 440», «Берлин — 1750» подскажет прохожему или
проезжему, что ее хозяин — народный артист СССР, кумир миллионов, Герой
Социалистического Труда и множества анекдотов Вячеслав Тихонов.
На счету Вячеслава Васильевича не так много фильмов — 45, но именно ему
советский кинематограф, где упор всегда делался на рабоче-крестьянскую
косточку, обязан модой на непафосную интеллигентность
и врожденный аристократизм. Глядя на его экранных персонажей, не скажешь, что
родился актер в семье механика по ремонту ткацких станков и воспитательницы
детского сада, а о существовании этикета и хороших манер узнал только во ВГИКе. Кстати, в Институт кинематографии его взяли сначала
условно, и только потому, что курс оказался сплошь
женским — тогда, в 1946-м, ребята просто не успели демобилизоваться из армии.
В то время еще не существовало понятия «секс-символ», но
сколько женских слез было пролито из-за красавца Тихонова в подушку, сколько
горячих признаний он выслушал! (Судя по тому, что лично протолкнула актера на
роль князя Болконского в картину Бондарчука «Война и мир», дрогнула даже
всесильная министр культуры СССР Екатерина Фурцева). Замечу, что Вячеслав вел
себя по отношению к женщинам исключительно порядочно — и на экране, и в жизни.
Женился на однокурснице Нонне Мордюковой, родившей от
него внебрачного сына, хотя невестой считал другую девушку из родного
Павловского Посада и впоследствии ни разу не ответил на задиристые откровения
бывшей жены, когда первая семья распалась. «Настоящий мужчина не должен
говорить о женщинах и болезнях», — улыбается Вячеслав Васильевич.
Тихонов никогда не страдал нарциссизмом, свойственным многим его коллегам,
избегал разговоров о себе, любимом. Молчун, отшельник, бирюк? Ну и пусть!
Умение говорить, — он считает, — выделяет человека среди зверей, а умение
молчать — среди людей. Если бы не это качество, вряд ли бы появилась
придуманная им знаменитая сцена встречи Исаева-Штирлица с женой, где за восемь
минут не произнесено ни слова, но так много сказано.
Своим талантом актер капиталов не нажил, но наотрез отказался участвовать в
предвыборных агитационных турах, сниматься в рекламе... Несколько лет назад в
больницу, где он лежал с больным сердцем, прорвался, несмотря на запреты и
заслоны, Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР долго расписывал, как замечательно
быть народным депутатом Госдумы от его партии, а потом спросил: «Согласны?».
Вячеслав Васильевич иронично ответил: «Помилуйте, у меня все-таки инфаркт, а не
сотрясение мозга».
Последний раз он снялся пять лет назад в художественно-документальном фильме
дочери Анны, которая назвала ленту об отце скромно и со вкусом «17 мгновений
Славы». Ну и пускай новые кумиры оттерли Вячеслава Тихонова с обложек глянцевых
журналов — им не под силу вытеснить его из сердец поседевших и погрузневших
поклонниц. Дамам и невдомек, что стройный красавец с аристократическим лицом
превратился в дедушку-«божий одуванчик». Видимо, щадя
их чувства, актер наотрез отказывается от телесъемок и интервью, не появляется
на светских мероприятиях: хочет остаться в нашей памяти прежним.
Ни одному московскому журналу или телеканалу не удалось в канун юбилея взять у
него интервью, но для «Бульвара Гордона» актер согласился сделать исключение.
«У ТИХОНОВА, — ГОВОРИЛ
ПЫРЬЕВ, — ЛИЦО НЕ РУССКОЕ, ОН ТО ЛИ АРМЯНИН, ТО ЛИ
АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ»
— Прежде чем вы зададите мне какие-то свои вопросы, я обязательно должен
сказать, что с удовольствием вас принимаю в этой зимней (хотя и капает с крыш)
обстановке. «Бульвар Гордона» — это Украина, которая в моей творческой судьбе
занимает особое место, поэтому поверьте: ваш приезд для меня очень важен. (До
боли знакомо, ну просто как Штирлиц, Тихонов закуривает). Дим, а вы курите?
|
|
— Нет, Вячеслав Васильевич, и даже не начинал...
— Вот молодец, а сколько же вам?
— К сожалению, уже 40...
— (Задумчиво). А вот мне на днях ни много ни мало 80. Вы молодой, это
славно... Когда же мне было 40? Н-да,
курил все равно... С войны... Мальчишками, когда немцы напали, мы ходили по
улицам подмосковного городочка
Павловский Посад, откуда я родом, и собирали окурки. Даже в такую слякотную,
как сегодня, погоду, подбирали их, сушили, шелушили и потом закручивали в
цигарки. В ту пору нельзя было не курить, и вообще, много чего тогда делали.
Сейчас (переходит на шепот) я вам, пока никто не видит, кое-что покажу. (Показывает
на руке татуировку «Слава»). Время такое было... Многие кололи себе всякие
имена, какие-нибудь изречения.
— А почему же вы ограничились словом «Слава»?
— Был слишком молод, застенчив и не имел девушки, имя которой мог бы навечно
запечатлеть. (Грустно). Дела давно минувших дней...
— Вы стали Героем Социалистического Труда, народным артистом Советского
Союза, лауреатом Ленинской и Государственной премий, любимым, признанным,
легендарным — вроде всего добились...
— Вообще-то я этого не добивался — просто работал, причем не потому, что хотел
прославиться, — вели интуиция, наитие, если хотите. Тогда ведь телевидения не
было, а что же у нас было — кино. Раз в неделю в наш городок привозили фильмы,
и мы, помню, спрашивали тех, кто их уже посмотрел: «Картина про любовь или про
войну?». Если оказывалось, что про любовь, никакого интереса у нас это не
вызывало, а вот если про войну, мы с удовольствием смотрели эти ленты по
нескольку раз.
— Вы же, я знаю, токарем были?
— Это еще в войну, в ремесленном училище... Стоял у токарного станка и запах
горелого масла и металлической стружки — особый такой запах — до сих пор не
забыл. Мы, пацаны, с удовольствием выполняли задания,
которые поручали нам взрослые, — вытачивали для фронта детали.
— В 1948 году на экраны СССР вышел фильм «Молодая гвардия», где вы,
20-летний студент ВГИКа, сыграли Володю Осьмухина...
— Создателей этой картины удостоили Сталинской премии, но получили ее не все.
Макарова, Мордюкова, Шагалова, Володя Иванов, который Олега Кошевого играл,
Сережа Гурзо за роль Сережки Тюленина: пять человек
плюс Герасимов — режиссер. Представляете, мои однокурсники уже носили медали
лауреатов Сталинской премии!
|
|
— А вы не
расстроились, что ее не получили?
— Что вы — об этом и не мечтал. Был рад, что в этом фильме снимался, что
прикоснулся к патриотической теме. К нам ведь сам автор приезжал — Александр
Фадеев, мы погрузились с головой в материал, ну а потом выпустились,
вылупились из вгиковского гнезда. Маленькие такие,
наивные, но работы-то не было... Очень мало тогда снимали картин, и никуда нас
не приглашали, а надо же было что-то делать — мы ведь вроде уже артисты. Вот
поэтому, повторяю, я благодарен вам, что приехали ко мне за интервью,
спрашиваете, интересуетесь, потому что Украина в то время и меня, и моих друзей
просто спасла. Сперва на киностудии имени Довженко мне
посчастливилось сыграть в картине Владимира Александровича Брауна про
подводников «В мирные дни», потом был фильм режиссера Шмарука
о молодых летчиках «Звезды на крыльях», ну а затем — снова Браун, «Максимка».
— А это правда, что когда вы, 17-летний, не поступили во ВГИК, при всех
горько заплакали?
— Ну нет, все это байки. Ничего я горько не плакал,
хотя, конечно же, горевал. Ну что делать — не приняли? «Не фотогеничное, —
сказали, — лицо».
— Такое лицо — и не фотогеничное? Не знаю, тоже ли это байки, но говорят,
что директор «Мосфильма» — знаменитый режиссер Пырьев
— считал вас неславянином и в мосфильмовских картинах задействовать не спешил...
— Дело в том, что Пырьев был тогда в кинематографе
очень большой величиной, и когда на студии шли пробы на какую-либо роль, Пырьеву обязательно демострировали
материал, и он или утверждал актеров, или не утверждал. Да, действительно,
когда ему показывали меня, он говорил: «У Тихонова лицо не русское, он то ли армянин, то ли азербайджанец — не надо его
снимать», и меня не утверждали. Под таким вот прессом у Пырьева
я находился, а вот на студии Довженко не обращали на это внимания, там были
рады, когда мы приезжали: я, Сережа Гурзо, Жорка Юматов...
— Хм, а сами-то вы понимали, что чертовски красивы?
— Я? (Удивленно). Да никогда в жизни! Мне, наоборот, это мешало, потому
что когда приглашали на какую-то роль и фотографировали, потом, как правило, шли
на попятную: «Извините, но нам нужно лицо попроще —
рабочее».
«НА ГЛАВНУЮ РОЛЬ В
«ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» МЕНЯ ПОНАЧАЛУ НЕ ВЗЯЛИ. «НЕ ФОТОГЕНИЧНОЕ, — СКАЗАЛИ, —
ЛИЦО»
— Как же такой интеллигентный человек, как вы, так убедительно сыграл
главную роль колхозного тракториста в картине «Дело было в Пенькове»?
|
|
— Вы сразу переходите к «Дело было в Пенькове», да? Дима, но подождите, дайте развить мысль.
— Боже мой, ну конечно — я вас перебивать не буду...
— Ой, а можно я к вам буду обращаться на ты?
— Почту за честь...
— В общем, когда Владимир Александрович Браун снимал «Максимку», он мне сказал:
«У меня есть сценарий картины, в которую обязательно вас позову». К сожалению,
запуска этой ленты он не дождался — умер, и работу передали Виктору Ивченко,
который в свой фильм — он назывался «Чрезвычайное происшествие», «ЧП», — меня
пригласил.
В роли одессита Виктора Райского хотели сниматься многие, в том числе и
украинские актеры, и когда начались пробы, добрая половина киностудии прибежала
посмотреть, как Тихонов себя покажет. Я это сразу понял и подумал, что надо бы
немножечко подождать, пока все разойдутся. Стал задавать режиссеру всякие
вопросы: объясните, дескать, куда пойти, где встать, что сказать. Естественно,
все ждать устали и начали расходиться, и тогда мы провели кинопробу, после
которой меня сразу же утвердили.
...Вы знаете, много лет до сих пор ко всем праздникам и юбилеям я получаю со
студии Довженко поздравления, и подпись под ними простая — «Гримерный цех». Эти
замечательные люди как бы напоминают своим вниманием, что на студии меня до сих
пор помнят и любят. (Я, кстати, не только в Киеве
снимался, но и в Одессе, в Крыму, в Ялте и Севастополе). Я, собственно, почему
так долго об этом рассказываю? Да потому, что чувство благодарности к студии
Довженко, Киеву и Украине глубоко у меня внутри и забыть этой доброты и тепла
не могу.
Ну а теперь «Дело было в Пенькове» — что ты хотел
спросить?
— Как вас с такой внешностью интеллигентной взяли на роль Матвея Морозова?
— С интеллигентной внешностью, говоришь? Не знаю, во всяком случае, я этого не
ощущал. Я вот вчера прочитал в газете, что снимают уже продолжение «17 мгновений
весны» (хотя нет, не продолжение, а фильм о молодых годах Исаева), и вот
молодой актер, которого взяли...
|
|
— ...Страхов?
— Да-да, наверное... Очень хорошее у него лицо, он, даст Бог, замечательно
будет работать, так вот, в этой газете он говорит: «Сейчас я вживаюсь в роль
Штирлица». (Пауза). Он вживается, но это еще не Штирлиц, нет — это пока
молодой Исаев. Штирлиц потом будет, позже, когда война подойдет к концу, но,
кажется, я отвлекся. Как с такой внешностью в «Дело было в Пенькове»
взяли? Не взяли — в том-то и дело: была проба, но художественный совет не
утвердил. По тем же соображениям — не фотогеничное лицо. «Играть предстоит
деревенского парня, а внешне Тихонов городской» — ну и выбрали другого актера.
— Кого?
— Моего друга, с которым мы вместе и за партой во ВГИКе
сидели, и снимались, и крепко дружили, — Сережу Гурзо.
Режиссер Станислав Ростоцкий позвонил и сказал:
«Слав, ну не утвердил тебя худсовет, ну что теперь делать? Давай подождем — я
буду следующую картину снимать, и тогда мы уж точно с тобой встретимся,
что-нибудь для тебя найду».
Грустно, конечно, мне было — я ведь уже сжился с ролью Матвея, да и похож он
был на ребят, с которыми и в ремесленном дружил, и
потом.
Прошло между тем пару недель, и вдруг неожиданно позвонили со студии: «Тихонов,
завтра ждем — грим, костюмы...». Я робко: «А в чем дело? Что-то произошло?». —
«Ничего, будешь сниматься». Оказалось, Ростоцкий
уперся, пошел в пресловутый художественный совет, который все на свете решал, и
заявил: «Буду снимать только Тихонова». Ему возражают: «Ну
какой же он деревенский парень? Внешность не подходящая — загубишь картину», а
он ни в какую и настоял на моей кандидатуре.
В первые же дни он пытался с моим лицом что-то
сделать. «Давай все упростим», — говорил, а как упростить, если я даже не
гримируюсь? «Нет, нет, давай поработаем. Гляди, у тебя тут (показывает
на переносицу. — Д. Г.), сросшиеся брови — не
надо их, в деревне таких не бывает. Теперь нос: у-у-у, какой нос — давай-ка его
подтянем». Стали в гримерном цехе всякими приспособлениями тянуть,
сфотографировали, показали. Ростоцкий расстроился:
«Ой, нет, не надо, тупеет лицо. Ладно, какая уж есть у тебя внешность, с такой и будем сниматься».
— Вы говорите о гриме, а это правда, что, пробуясь на роль Штирлица,
приклеили себе гитлеровские усики?
— Понимаешь, когда Лиознова меня пригласила, я начал
думать, каким же он может быть, Штирлиц, если столько лет в самом логове Рейха
находится. Все они тогда, в то время, как я
прикидывал, пытались походить на фюрера, поэтому прицепил маленькие усики, но
когда показал эту фотопробу Лиозновой,
она сказала: «Не надо, сними их, оставайся самим собой. Все равно будут знать,
что это Тихонов». Она этот ход отвергла, и я со своим лицом, без всякого, так
сказать, вмешательства гримеров начал сниматься.
«НАД АНЕКДОТАМИ ПРО
ШТИРЛИЦА Я НЕ СМЕЯЛСЯ»
— У вас удивительные глаза, удивительное умение в этом фильме держать
крупный план. Тяжело приходилось?
— Я бы так не сказал, потому что с точки зрения актерской по-другому все это
воспринимается. Ролью Штирлица я жил, она у меня крепко засела внутри, и если
надо было, как ты говоришь, держать паузу, я не думал о том, пауза это или нет,
— просто по ходу действия размышлял.
|
|
— Снимали в основном с первого или второго дубля?
— О нет, дублей тогда делали много, хотя в сценах с Броневым, Женей
Евстигнеевым, Катей Градовой и, конечно же, с Ростиславом Янычем
Пляттом этого вовсе не требовалось — мастера. То ли мы приняли все близко к
сердцу — эти образы, ситуацию, которую нам Юлиан Семенов подкинул, но когда
картина была смонтирована и вышла на телеэкраны, действительно обнаружилось,
что я не просто держу эти паузы — живу в них.
— Такого долгого молчания в советском кино никогда, по-моему, не было, а это
правда, что «17 мгновений весны» Суслов хотел запретить?
— Суслов? (Удивленно). Ты знаешь, впервые об этом слышу. Главным
консультантом картины ведь кто был? Семен Кузьмич Цвигун, первый зам
председателя КГБ СССР Андропова, поэтому не думаю, что до Суслова все это
доходило. У него какие-то другие, видимо, были задачи.
— Тем не менее мне, рассказывали, что когда ваш
фильм посмотрел Брежнев, он заплакал и дал указание срочно найти Исаева, чтобы
присвоить ему звание Героя Советского Союза. Когда же ему сказали, что Исаева
нет, это персонаж вымышленный, Леонид Ильич якобы распорядился: «Тогда
наградите Звездой Тихонова»...
— (Улыбается). Все это не более чем легенды, которые окутали нашу
картину впоследствии.
— Но подождите: заплакал Леонид Ильич, когда кино посмотрел?
— Не знаю, при этом я не присутствовал.
— А сами-то с ним встречались?
— Лично — нет, хотя домой он мне звонил и мы беседовали по телефону. Он даже
сказал, что с удовольствием вручил бы Звезду Героя мне лично, однако: «Вы этой
награды достойны, но, к сожалению, я уезжаю на отдых, очень устал», — начал мне
Брежнев жаловаться. «Леонид Ильич, — я ответил, — я вот встречал вас на трассе,
по пути на охоту, так ехали вы очень быстро. Нельзя так, надо поосторожнее». Он рассмеялся — видимо расценил, что хвалю
его как водителя...
Ну вот, Брежнев уехал на отдых, а Звезду Героя Социалистического Труда я
получил из рук первого заместителя председателя Президиума Верховного Совета
СССР Кузнецова.
|
|
— После «17 мгновений весны» разведчики вас, наверное, особенно зауважали?
— А они ко мне и раньше относились неплохо. Еще до Штирлица мы с Ией Саввиной поехали в Чили: она — с «Дамой с собачкой», а я —
с «Оптимистической трагедией». С Чили в то время дипломатических отношений у
нас не было, и накануне отъезда меня вызвал к себе один большой руководитель.
«Первая остановка, — сказал, — будет у вас в Буэнос-Айресе, там вас будут
встречать, и у меня просьба: передайте, пожалуйста» — и протянул мне конверт,
обычный конверт. Я: «Хорошо, с удовольствием», — понял, что мне дают задание
передать конверт. Этот человек между тем продолжал: «Знаете, я должен сказать
вам, что в чужие руки это письмо попасть не должно». Тут уж я внутренне
напрягся: «Постараюсь, конечно же, постараюсь». — «Да-да, в крайнем случае, вы
его съешьте», — очень торжественно и серьезно произнес он. Я недоуменно
ответил: «Вы знаете, я никогда бумагу не ел», а он: «Не волнуйтесь, я научу.
Это очень просто: когда почувствуете опасность, пойдите в туалет, разорвите конверт
на мелкие кусочки и проглотите. Водичкой из рукомойника запьете — и все будет
нормально». Таким вот напутствием он меня проводил.
— И что, вы твердо решили в случае чего съесть конверт?
— В самолете я был, разумеется, взволнован и постоянно смотрел по сторонам: не
пора ли уже идти в туалет. Ну, слава Богу, долетели, нас встретили
замечательные наши посольские ребята — какие-то огромные, надежные, с юмором.
Когда они ко мне подошли, я попытался (будучи опять-таки человеком неопытным)
сказать, чтобы никто по губам не понял: «У меня к вам письмо». Они: «Чего-чего?
Письмо? А-а-а, давай». Я: «Как давай? Прямо здесь?». — «Да-да, не переживай». А
они же посольские, у них защита дипломатическая... Я одному товарищу это письмо
отдал, он взял, посмотрел, сказал: «Хорошо, спасибо» — и спокойно, на виду у
всех, спрятал в карман. Мне на душе полегчало — дальше я полетел, понимая, что есть в туалете бумагу уже не придется.
|
|
— Вячеслав Васильевич, о Штирлице народ сложил множество
анекдотов, а какой ваш самый любимый?
— Ой, Дима, не знаю... Мне их рассказывали, я терпеливо выслушивал: «Да-да,
интересно»... Рассказчики смеялись, а я, честно говоря, не очень. Много
подобных смешилок было и про Чапаева, и про Петьку,
но, по-моему, большой ценности в таком, так сказать, творчестве нет. Поверь,
Дима, глупости это... Анекдоты — они все-таки и есть анекдоты, а «17 мгновений
весны» в анекдот не вписываются — серьезная была работа.
— Вот интересно, а сейчас вы этот фильм иногда смотрите? Как он вам спустя
35 лет?
— Бывает, смотрю, когда по телевидению показывают. Мне нравится там и работа
режиссера Татьяны Михайловны Лиозновой, и музыка,
которую написал Микаэл Таривердиев, и эти две песни
прекрасные. Я даже порой, когда грустно становится и одиноко, включаю
проигрыватель, чтобы их еще раз послушать. Кобзон, я считаю, замечательно спел.
Лиознова, помню, ему сказала: «Эстрада мне тут не
нужна, Кобзон не нужен», а она понимала, чего хочет.
— Перед Иосифом Давыдовичем, я знаю, Муслим
Магомаев петь собирался?
— И Магомаев, и, может, кто-то еще, но остановилась она все-таки на Кобзоне.
«Попробуй представить, — сказала ему, — как пел бы на экране Исаев-Штирлиц», и
Кобзон потрясающе с этим справился.
«ЖЕЛАНИЯ С МОРДЮКОВОЙ ОБЩАТЬСЯ У МЕНЯ НЕТ. ЗАЧЕМ
— ВСЕ УЖЕ ДАВНО ЯСНО. ЖИЗНЬ РАЗВЕЛА, РАССТАВИЛА ВСЕ ТОЧКИ НАД «I»...»
— Вячеслав Васильевич, месяц назад я брал интервью у вашей первой супруги Нонны Викторовны Мордюковой...
— Да? (Сухо). Ну что же, я тебя поздравляю.
— Она мне сказала: «Тихонов всю жизнь молчал, как тот Штирлиц, и меня не
любил, хоть мы и девственными друг другу достались, он
мне опостылел. Мы разные люди: я казачка — яркая, боевая, а он — тихий павлово-посадский мальчик, не приспособленный к жизни. Ради
своей семьи я что есть мочи старалась, тянула воз, а Тихонов — нет. Часами мог
сидеть за столом, покрытым клеенкой, и пить чай из самовара»...
|
|
— Все это опять же легенды. Мало ли что она там: «Любил, не
любил...». Все в прошлом, наши пути давно разошлись. Она по колхозной теме
больше пошла, в таких фильмах стала сниматься, а я...
— Но вы же прожили с ней много лет...
— Да, и сын родился, Володя. Я страшно был счастлив, потому что ютились мы в
общежитии, жить было негде, а тут сын!.. Он ведь тоже актером стать захотел,
пытался сниматься, но (глубоко вздыхает) не удалось ему уйти от судьбы.
Судьба у него печальная, понимаешь?.. (В глазах заблестели слезы). Рано
покинул он нас, рано...
— Он же на вас был похож?
— Так говорили. Коля Рыбников, другие мои друзья, но главное ведь не это, а то,
что он был желанный ребенок, парень, продолжатель рода. Для мужчины, как ты
понимаешь, это очень важно, но (снова вздыхает), пришлось Володе уйти.
— Слышал, вы на его похоронах не появились...
— Ну как это — я там был. Народу пришло немного, а я... (Пауза). Я
потерял корешочек какой-то, стержень, а вот сейчас (оживляется)
у меня стержень двойной, поскольку Аня, дочка моя, родила двух мальчишек,
моих внуков. Одного они с Николаем назвали Славиком, в честь меня, а второго —
в честь другого деда Георгием. Значит, вот, Гошка и
Славка (смеется) — два у меня разбойника. Крушат здесь на даче все,
ломают, выкручивают — боимся, как бы они плиту не включили и газом не
отравились. С утра до вечера приходится за ними присматривать.
|
|
— Возвращаясь к Нонне Викторовне
— она призналась, что ваша супруга Тамара ей иногда звонит...
— (Сухо). Не знаю. Может, звонит, может, нет. Может, Нонна
хотела бы, чтобы ей позвонили, а может, кто-то пользуется этим и во время
звонка называет себя другим именем...
— Но лично у вас нет желания с Нонной Викторовной
пообщаться, поговорить?
— Зачем — все уже давно ясно. Жизнь развела, расставила все точки над «i», правда, после нашего расставания в «Войне и мире» мы
ненадолго встретились. Нонна Викторовна играла там
какую-то девку Анисью...
— ...а вы Андрея Болконского?
— Ну да, князя. В князья выбился из ремесленного училища, а Нонна
Викторовна актриса прекрасная, замечательная, но, увы, что-то у нее не
склеилось, и сейчас раскопать, что, где, как и каким образом, — невозможно.
— У Володи, я знаю, осталось двое детей — ваших, стало быть, внуков. Вы с
ними совсем не общаетесь?
— Ну как — один внук, его тоже зовут Володя, сюда заезжал. Они уже большие,
взрослые, а у меня двое маленьких подрастают, и я думаю: что с ними будет уже в
новом мире (не в СССР, а в Российской Федерации, то есть уже при капитализме),
как сложится их будущая жизнь? Вот об этом я сейчас как-то очень задумываюсь, а
еще о том, как им помочь. Впрочем, чем я им помогу? Я уже давно на пенсии, не
снимаюсь...
«Я СКАЗАЛ: «БАБА ВАНГА,
Я ПРИВЕЗ ВАМ ПОДАРОК. ЭТО ЛЕКАРСТВО» — И ПРОТЯНУЛ ЕЙ БУТЫЛКУ ВОДКИ»
— Вы были, я считаю, едва ли не самым популярным артистом за всю историю
советского кинематографа...
— Ну, нет, Димочка, не надо...
|
|
— Поверьте,
это не дежурный комплимент, мне действительно трудно кого-то поставить рядом.
Как эту всенародную любовь вы ощущали?
— Да никак — мимо она шла. После «17 мгновений» я снимался у Игоря Гостева в
картинах «Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта» и «Фронт в тылу врага»
по книге «Мы вернемся», которую написал все тот же Цвигун. Когда мне стали
предлагать в этих картинах участвовать, я было отказался. Снова война — зачем?
Не хотелось, и потом, в отличие от Штирлица роль Млынского
не очень была убедительной. Я соскочил, но ко мне пришел человек в штатском и
очень вежливо произнес: «Вячеслав Васильевич, Семен Кузьмич Цвигун просил вас,
прежде чем отказываться, подумать».
— А то хуже будет, да?
— Не знаю, этого он не сказал, но я понял, что дальше отказываться и некрасиво,
и в дальнейшем могут быть сложности. Поэтому и согласился, к тому же накануне у
меня была встреча с прорицательницей Вангой.
Будучи с творческими встречами в Болгарии, Юлиан Семенов, Татьяна Лиознова и я узнали, что есть вот такая Ванга,
и нам захотелось на нее посмотреть. Отправились черт-те куда на границу с Грецией и Югославией,
приехали рано утром и увидели столпотворение машин и людей, которые прибыли из
разных стран, чтобы попасть к этой женщине и что-то выяснить.
Ну, мы же не можем лезть без очереди, но когда ей сказали, что приехали гости
из Советского Союза, баба Ванга, как ее все называли,
пообещала: «Я их приму» — и приняла. У нее была переводчица (может, племянница
— я не знаю, знакомы мы не были), так вот, она вышла из комнаты, где
прорицательница находилась, и сказала: «Ванга просит
войти человека, у которого цветочное имя». Я: «Юлиан, иди, наверное, ты», и он
пошел. Через некоторое время вышел оттуда совершенно другим человеком —
немножечко был не в себе, о чем-то внутренне размышлял и в глубине души что-то,
как мне показалось, решал. Я спросил: «Юлик, ну что?
Что тебе Ванга открыла?». Он в ответ: «Слава, понять
могу все, но откуда она узнала, что далеко в Москве в моей «волге» не работают
в одном колесе тормоза, ума не приложу». Я удивился: «А как это прозвучало?». —
«Да вот так: «Бойтесь в своей машине правого колеса».
|
|
— Вам что-то она предрекла?
— (С наигранной обидой, но мягко). Вот видишь, какой ты — я к этому еще
не подошел.
— Ну все, больше перебивать вас не буду — вот
зарекаюсь...
— Да нет, пожалуйста, — ты ведь руководишь парадом.
— Вы на меня так сейчас посмотрели — ну прямо как Штирлиц на Мюллера...
— А знаешь, однажды я понял, как трудно играть, когда у тебя нет глаз.
Несколько лет назад я снимался в картине Сергея Урсуляка «Сочинение к Дню Победы».
— Ну да, с Олегом Ефремовым и Михаилом Ульяновым — блестящее трио!
— Я играл Левку Маргулиса, слепого летчика-ветерана,
который потерял после войны зрение и приехал к своим друзьям на праздник, и вот
там мне было очень трудно — не хватало взгляда, работы глаз, которые все-таки
зеркало души.
...Следующей к Ванге пошла Лиознова
— вошла серьезная и серьезная вышла. Села, мы смотрим
на нее в надежде, что сейчас что-то расскажет, — нет, ничего, молчит. Ну, мы не
стали ее тормошить: не хочет женщина — не надо.
|
|
Чувствую, моя
пришла очередь, нервы уже немножечко напряглись... Все-таки одно дело — знать,
что есть такая предсказательница Ванга, а другое —
услышать, что она сейчас обо мне скажет. Признаюсь: стало даже страшновато. В
моем портфеле была бутылка водки (мы все, когда ездили за границу, обязательно
возили с собой буханку черного хлеба, потому что посольские работники по нему
тосковали, и на презент пару бутылок беленькой — и вот одна у меня осталась).
Вспомнил о ней и подумал: «Вот оно, мое спасение». Когда позвали, вытащил эту
бутылку дрожащей рукой, вошел... Смотрю, сидит женщина, один глаз заплыл, и я,
словно она глухая, вдруг отчего-то громко сказал ей: «Баба Ванга,
я привез вам подарок. Это лекарство, и если вы заболеете, немножко попробуете —
и оно вам поможет». Она совершенно спокойно нашла незрячими глазами эту
бутылку, поставила где-то под стол у ног, и начали мы разговаривать.
Почему я об этом вспомнил, почему этой темы коснулся? Когда уходил, она опять
же, не видя меня, сказала: «Вам предстоят военные роли». Я обрадовался: Боже
мой, буду что-то играть, значит, жизнь будет продолжаться, и с этим ушел, но
главное, она оказалась права. После этого девять лет я «воевал» в этих трех
двухсерийных «Фронтах», девять лет ходил в военной форме, играя майора Млынского, затем полковника Млынского
и так далее.
«ОЧЕНЬ ТРУДНО СМОТРЕТЬ,
КОГДА С ЭКРАНА В ТЕБЯ ЦЕЛЯТСЯ»
|
|
— Вячеслав Васильевич, признайтесь, поклонницы сильно одолевали?
— Меня? Да нет, я как-то этого не ощущал.
— Но письма от женщин, любовные признания приходили?
— Писем, вообще, было много, но ничего такого, чтобы это как-то мешало мне в
жизни или отвлекало от любимой работы.
— В Советском Союзе слов «секс-символ» не употребляли, а вы понимали, что
были реальным секс-символом
нескольких поколений?
— Не знаю, не знаю, и до сих пор не совсем в это определение «секс-символ»
верю. Извини, Димочка, но в этом вопросе помочь тебе никак не смогу. Я никогда
к этому серьезно не относился, и сейчас, когда про кого-то так пишут... У нас
вообще много секс-символов
появилось...
— Актеров мало, секс-символов
много...
— (Улыбается).
— Вячеслав Васильевич, а это правда, что недавно вы перенесли инфаркт?
— Что-то такое да, было... Наверное, инфаркт, но, слава Богу, прошло вскользь. Ночью на даче стало мне плохо с сердцем, а
здесь неподалеку военный госпиталь, и зять Николай сразу туда повез. Госпиталь,
повторяю, военный, ну и стали там первым делом заполнять карточку. Я сижу —
хоть бы дали чего-то выпить или кольнули, чтобы убрать эту ноющую боль в груди,
но нет — первым делом офицер-медик в белом халате уселся под лампой заполнять
бумагу. «Фамилия?» — спрашивает. — «Тихонов». — «Имя-отчество?». — «Вячеслав
Васильевич», — вяло так отвечаю, понимая, что все это пустая формальность.
Следующий его вопрос: «Звание?», а звание у меня какое? Ну
я и сказал: «Штандартенфюрер».
|
|
— СС...
— Нет, «СС» не добавлял — просто штандартенфюрер. Он из-под лампы своей вылез,
посмотрел на меня, засмущался: «Ой, извините, я вас не узнал».
— Насколько я понимаю, особых богатств вы не нажили...
— Богатств? (Улыбается). Твоя память — это мое богатство, Украина, где я
много работал и где обо мне до сих пор по-доброму помнят, — тоже, а остальное
что? Ерунда...
— У вас нет сожаления, что, если бы играли свои лучшие роли сейчас, намного
больше бы заработали, лучше бы жили?
— Если повернуть время вспять и сдвинуть историю нашего славного синематографа
немножко вперед, может быть, но опять-таки я на это внимания не обращаю. Мне
очень жалко людей, которые богаты и сверхбогаты. Как
они называются? Олигархи, миллиардеры? Я им сочувствую. Ставишь себя иногда на
их место и думаешь: «Ну, вот был бы у меня, допустим, миллион
долларов, и зачем? Пенсии мне хватает, есть дочь, внуки...». Нынешним
звездам я не сочувствую — им труднее, очевидно, живется, хочется больше и
больше. Покупают для пиара или чего-то еще всякие ненужные вещи, но мне это ни к чему.
— Станислав Ростоцкий снял вас, помимо
«Дело было в Пенькове», еще в двух замечательных
фильмах: «Доживем до понедельника» и «Белый Бим
Черное ухо» (за эту картину вы получили Ленинскую премию). Эти ленты в вашей
актерской судьбе можно назвать эпохальными?
— В какой-то степени можно, потому что в «Белом Биме»,
например, мне пришлось работать с собакой — с чужой, взрослой. Как сделать так,
чтобы она привязалась ко мне, как к хозяину? Пришлось с ней подружиться и
заставить ее в итоге относиться ко мне тоже по-человечески.
|
|
— Уже после перестройки вы сыграли в замечательной ленте «Любовь с
привилегиями». Советская партийная номенклатура, вы знаете, вас обожала, а тут,
поди ж ты, вы воплотили совершенно отвратительный
образ заместителя председателя Совета министров СССР, причем сыграли классно и
убедительно. Не было со стороны бывших руководителей Союза претензий, мол:
«Зачем же ты так?».
— Нет, да и играл я, в общем-то, неплохого человека — такие были. В то время я
тоже понимал, что существуют правила игры, и одного из крупных советских
руководителей, даже не знаю, кого конкретно, я и воплотил на экране. Моей
партнершей была прекрасная актриса Любовь Полищук, очень хороший сценарий
написал Валя Черных... В этой картине было что играть, поэтому она и
получилась.
— Самая любимая ваша роль наверняка Штирлиц?
— Совсем нет — Матвей в «Дело было в Пенькове».
— Все-таки?
— Да, потому что с этой роли, с этой картины начался и я как актер, и моя
дружба с Ростоцким, и все остальное. Это был для меня
старт, я понял, что из себя представляю и чисто
внешне, и внутренне. Что интересно, когда фильм уже выпустили, те же люди,
которые говорили, что я не фотогеничен, утверждали: «Очень похож».
|
|
— И шапка правильная, и кожух?
— Все их устроило...
— Вячеслав Васильевич, а вы смотрите иногда дома свои ленты? Бывает такое,
что поставите диск и предаетесь ностальгическим воспоминаниям?
— Дисков (разводит руками) у меня нет. Была на кассете картина «Дело
было в Пенькове», было 12 серий «17 мгновений весны»,
но я подарил их человеку, который помог мне эту дачу построить. Денег не было,
а он занимал какой-то большой пост в строительном деле
и просто по-доброму ко мне отнесся. Сказал своим подчиненным: «Надо помочь», и
благодаря этому потихонечку, имея очень скромные финансовые возможности, мне
удалось довести все до конца.
— Я вам задам последний вопрос: если сегодня вас пригласят сняться в кино,
на какую роль согласились бы, не задумываясь?
— Это, смотря, что предложат — надо еще почитать сценарий, узнать, кто его
написал.
— То есть теоретически все возможно?
— Ну, если снимать взялся бы Ростоцкий или Бондарчук
(царствие им обоим небесное!), я бы, конечно, не стал сценарий читать, но
сейчас другой кинематограф, и в картинах, которыми нас порой мучает
телевидение, я для себя роли не вижу. Наверное, пришло время других фильмов,
другой на дворе век, и молодежь уже смотрит, как друг за другом гонятся, как
стреляют, душат и убивают, — повсюду кровь и насилие. Мешает это невообразимо —
очень трудно смотреть, когда с экрана в тебя целятся. Мы делали фильмы для
того, чтобы люди, посмотрев их, понимали, как хорошо, как прекрасно на свете
жить, а сейчас, наоборот, страшно после таких картин становится. Господи, не дай Бог к кому-то залезут в дом, кого-то похитят, убьют...
Дима, ну разве это искусство?