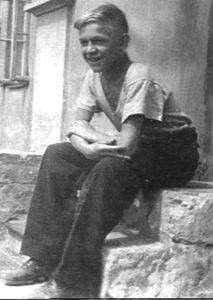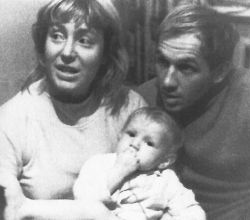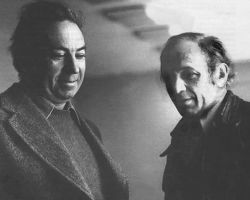№46, 17 ноября 2009г, «Бульвар Гордона», часть 1
Народный артист СССР Лев
ДУРОВ: «Ира моя украинка, очень красивая, к ней все так и липли. Ухажеров
она спрашивала: «А балберка у тебя есть? Нет? А вот у Дурова есть!». Ни у кого,
кроме меня, этой штуки не было...»
|
|||||
|
Фото Александра ЛАЗАРЕНКО |
Всенародно любимый
актер отмечает 55-летие творческой деятельности, а вскоре готовится праздновать
78-й день рождения
![]()
Давным-давно, будучи
еще студентом Школы-студии МХАТа и занимаясь сценической речью, Лев Дуров
придумал трогательную скороговорку: «Кабы мне бы да красы, кабы мне бы да усы,
кабы мне бы рост да пыл, я б герой-любовник был». Впрочем, сетовал он на
судьбу-злодейку напрасно: герой-любовник — едва ли не единственное амплуа, с
которым у него не сложилось. Кого только не сыграл Лев Константинович за 55 лет
в актерской профессии — от пса Шарика в мультике «Трое из Простоквашино» до
Господа Бога в картине Варфоломеева «Святой и грешный».
Коллеги называют его большим артистом маленького роста, перпетуум-мобиле и
мужиком своим в доску, а для публики Дуров — то неразменное советское достояние
(кстати, звание народного СССР он получил в 1990 году в числе последних), которое
не смогли растащить по оффшорам шустрые «новые русские» со старыми, как мир,
хватательными рефлексами. Что интересно, превыше всего мой собеседник дорожит
званием «трагический клоун» — им когда-то его наградил на театральном фестивале
в Эдинбурге английский критик, с раскидистым генеалогическим древом актера не
знакомый и потому не подозревавший, что тот состоит в родстве со знаменитой
российской цирковой династией. Забавно, что и в родной Москве сыскался человек,
считавший, что в Льве Константиновиче погиб великолепный коверный — это был
Юрий Никулин, а уж его мнению доверять можно.
Дуров обожает запах цирка, легко находит общий язык со зверьем, но никогда не
выходил на арену — в 13 лет после очередной уличной драки приятель затащил его
в районный Дом пионеров, где был детский театр, и... Лефортовская шпана,
потерявшая одного из своих заводил, за глаза насмешничала: «Седой в артисты
подался», но в лицо грубить не решалась: можно было и по зубам получить.
Талант не пропьешь, гены не обманешь... Он и сегодня, когда 80 не за горами,
остается хулиганом, авантюристом, любителем острых ощущений и редким
трудоголиком. Деда, как прозвали его в Театре на Малой Бронной, невозможно
представить в пижаме пенсионера со стаканом кефира в руках — только сжимающим шпагу,
снайперскую винтовку или самурайский меч (из личной коллекции). Оправдывая свое
имя, Лев Константинович никогда не прибегал к помощи каскадеров: дескать,
почему кто-то должен рисковать жизнью, исполняя трюки вместо него? За все он
брался легко и без колебаний, поскольку в душе был уверен: сможет. Театральные
подмостки и съемочную площадку Дуров до сих пор воспринимает, как ринг, где
побеждает тот, кто засадит в челюсть, то есть точнее попадет в роль. «Обычно, —
без ложной скромности признается он, — попадал я».
Лет 10 назад жизнь отправила его в глубокий нокаут: во время съемок фильма «Не
послать ли нам гонца?» случился тяжелый инсульт. Некоторые его коллеги,
пропустив такой хук в голову, уже не могли подняться, а Дуров, держась за
прилаженную зятем жердочку, на следующий день попытался встать на ноги. «Я
просто заставлял себя не трусить, — вспоминал он, — или умру, или
выкарабкаюсь». Ему пришлось заново учиться ходить, говорить, но уже на 10-й
день, сбежав из больницы, Лев Константинович доснялся в фильме (даром что еще
слабо ориентировался в пространстве). Впрочем, об этом он говорить не любит —
как и о двух операциях на сердце да о вживленном кардиостимуляторе.
Без потерь из той передряги актер не вышел — лишился переферического зрения и в
результате не видит ни справа, ни слева, ни снизу, ни сверху. Поэтому и
вынужден был отказаться он вождения автомобиля: не хочет подвергать опасности
жизнь пешеходов, а в остальном никаких поблажек. Играет в театре, активно
снимается, написал две книжки, ставит спектакли, выпустил курс Школы-студии
МХАТа. Еще и посмеивается: «У российского пенсионера только одна привилегия —
переходить дорогу на красный свет».
Он любит повторять, что пережил семь императоров, и надеется, что эта цифра
далеко не последняя. Дуров еще порадует нас новыми ролями, дурачествами и,
конечно же, байками — не зря же Валентин Гафт посвятил ему эти строки:
Артист, рассказчик, режиссер —
Как в нем талант неровно дышит!
Он стал писать с недавних пор —
Наврет, поверит и запишет.
![]()
Дмитрий ГОРДОН
«Бульвар Гордона»
![]()
![]()
«У МЕНЯ, ЧТОБЫ ВЫ
ЗНАЛИ, РОСТ ПОБЕДИТЕЛЯ»
— Ну, слава Богу, Лев Константинович, рад видеть вас в добром здравии, а то
в газетах я прочитал, что у вас чуть ли не...
— Ой (перебивает),
вечно они что-то пишут — не верьте! Все замечательно, никаких потрясений не
было, ничего, хотя, конечно, молодцы журналисты. Я иной раз даже диву даюсь:
такие понятия, думаю, как совесть, честь, у них присутствуют? Артист — не будем
называть фамилию — попал в тяжелейшую аварию, а на следующий день в прессе его
фотографии вдруг появились: голова перебинтована, отовсюду торчат трубочки...
Он же не в палате обычной лежал, в реанимации — а кто туда может попасть, вот
скажите? Туда даже родных не пускают, по крайней мере, в первые дни, значит,
некая система срабатывает: кто-то кому-то платит, и деньги открывают все двери.
— Сами сестры,
очевидно, и фотографируют...
|
|
|
Левочка Дуров, 1933 год |
— В том-то и дело.
Безнравственно совершенно, но что тут поделаешь? Лучше не обращать на такие
вещи внимания, потому что можно просто в ярость прийти, а она до добра не
доведет.
— Лев Константинович,
обычно люди маленького роста комплексуют из-за того, что не вымахали до
потолка...
— Ой-ой-ой!
— Такого у вас никогда
не было?
— Фиг вам! (Смеется).
Во-первых, у меня, чтобы вы знали, рост победителя — Геракл, по-вашему,
великаном был?
— Да, нет, небольшого
росточка...
— Моего, если быть
точным. По древнегреческим канонам, — их, по-моему, скульпторы Фидий и Поликлет
ввели — голова должна шесть или семь раз укладываться в длину тела.
— А умная голова?
— Вот как раз о такой
речь: у нас, маленьких, других не бывает, так что со времен древних греков это
рост победителя — вот!
Правда, когда я в
Школу-студию МХАТа поступал, возникло минутное замешательство — мне рассказала
об этом девочка-абитуриентка, ночевавшая в комнатке, где потом мы обычно
переодевались на танец. За ее стенкой была педчасть, и она отчетливо слышала
обсуждение, так вот, когда встал вопрос обо мне, кто-то возразил: он, дескать,
маленького роста. На мое счастье, Грибков, артист, педагог, лауреат Сталинской
премии, вскочил вдруг и закричал: «А я какого роста?! А Топорков?! А Грибов?!
Давайте и нас выгоняйте из МХАТа — что к парню-то привязались?». Меня взяли...
|
|
|
С сестрой, начало
30-х |
— Незабвенный Юрий
Богатиков по этому поводу отшучивался: «Я, хоть и маленький, весь в корень
пошел»...
— Ну да, и поэтому я
никогда не комплексовал. Жена у меня украинка — высокая, и хотя сейчас уже, так
сказать, немножечко ретро, была очень красивая. Когда она перевелась к нам в
Школу-студию из Киевского театрального института Карпенко-Карого, я раз за
разом выигрывал соревнование со многими студентами, которые к ней так и липли.
Когда кто-нибудь начинал подбивать клинья, Ира спрашивала: «А балберка у тебя
есть?». Незадачливый ухажер удивлялся: «Нет». — «А вот у Дурова есть!». Ребята
потом ко мне бежали: «Скажи, что такое балберка?». — «Это, — я отвечал, — очень
такое интимное, сексуальное, что вслух произнести не могу». Следующий с ней
начинал заигрывать: «Ира...». — «А у тебя балберка есть?». Ну а поскольку ни у
кого, кроме меня, этой штуки не было, я, в конце концов, победил, и Ира стала
таки моей женой.
— Что же такое
балберка?
— Всего лишь пробковый
поплавок с дырочкой от морской рыбацкой сети. Она у меня сейчас на полке стоит,
потому что из-за нее мы с Ириной Николаевной с 54-го года вместе — это сколько
уже?
— Ровно 55 лет, и ваша
балберка по-прежнему, как я понимаю, при вас...
— Слава Богу!
«КАК ТОЛЬКО
НАТАША ДУРОВА ВЫХОДИЛА К ТРИБУНЕ, ЛУЖКОВ СКУКОЖИВАЛСЯ. «ЗВЕРУШКИ КУШАТЬ ХОТЯТ,
-ГРОХОТАЛА ОНА, — ТИГРИКОВ Я НА ПЛОЩАДЬ ВЫПУЩУ»
— У вас знаменитая фамилия — это правда, что род Дуровых занимает шестую
часть геральдической книги России?
— Это действительно
так: и Надежда Дурова, кавалерист-девица, и Анастасия Дурова, в течение 17 лет
настоятельница Новодевичьего монастыря, и восемь стольников Петра I, и
постельничий Ивана Грозного, и цирковые Владимир и Анатолий — все наши.
— От гордости вас не
распирает?
|
|
|
«Каюсь: бедокурил, плохо учился, меня
изо всех школ выгоняли. В одной я пробыл ровно один урок и перемену...» |
— Нет, абсолютно.
— Многие Дуровы
принадлежат к легендарной цирковой династии — у вас никогда не было искушения
стать артистом цирка?
— Нет, знаете ли, а
вообще, в нашей семье сложилась странная ситуация. Владимир и Анатолий были
родными братьями, но не дружили...
— ...бывает...
— ...точнее, страшно
друг другу завидовали, и один на случай личной встречи держал при себе борца
Ивана Поддубного, а другой — Заикина, тоже борца. Каждый из них приписывал себе
наиболее удачные репризы брата и так далее, и мы, их дети и внуки, как-то тоже
особенно дружны между собой не были. Поди ж ты, случилось так, что когда мне
очередную цацку вручали (а нет, звание присваивали), какая-то большая, я так
понял на слух, женщина в шляпке, в каком-то невероятном платье неожиданно
заорала: «Левочка, у нашей династии сегодня такой день!».
Она бросилась на меня,
схватила, и когда повеяло смесью дорогих духов и запаха зверья, я понял — это
Наталья Дурова. С того момента и до последних ее дней мы очень дружили: она
замечательная была, удивительная, одна из последних не интеллигенток даже, а
аристократок. Всегда роскошная, чуть-чуть властная, и Юрий Михайлович Лужков,
например, мэр Москвы, очень ее боялся.
Он культуру не
забывает: строит для театров и выставок новые здания, реставрирует старые, а
еще ежегодно собирает так называемую творческую интеллигенцию, и на каждой
такой встрече Наталья обязательно выступала. Как только выходила к трибуне,
Юрий Михайлович скукоживался, кепка у него становилась масенькой-масенькой...
Она грохотала: «Юрий
Михайлович, зверушки кушать хотят, и тигриков я, пожалуй, на площадь выпущу —
вы ведь знаете, что не шучу. Мои полосатенькие найдут, кого съесть, а в
окрестностях, между прочим, ваши думщики часто прогуливаются». Он: «Наташа,
все, — сегодня же вам для зверей привезут корм».
— Все знают печально
известную тюрьму «Лефортово», но многие не в курсе, что так называется и район
Москвы...
— ...исторический...
— ...где прошли ваше
детство и юность. Говорят, вы были отпетой шпаной — это, правда, легенда?
— Шпана, жулики и
бандиты — понятия совершенно разные. В Москве было четыре криминальных района:
Марьина Роща, Измайлово, Сокольники и наше Лефортово, и в основном жизнь
клубилась у нас вокруг голубятни — именно там собирались все слои местного
общества.
— И карманники в том
числе, и домушники?
— Все, но ни я, ни
другие не знали, что в Уголовном кодексе есть безнравственная, на мой взгляд,
статья (она и по сей день сохранилась), которая называется «за недонесение»
(наверное, ее надо было сформулировать как-то иначе, потому что звучит это
нехорошо).
На голубятне разговоры
велись откровенные, но тогда абсолютно немыслимо было, чтобы кто-нибудь на
кого-нибудь стукнул, — даже представить такое смешно. Я был нормальным
шпаной-голубятником...
— ...и много хлопот,
небось, доставляли родителям и учителям?
— Каюсь: бедокурил,
плохо учился, и меня изо всех школ выгоняли (хотя и по разным причинам). В
одной, кажется
342-й, я пробыл ровно один урок и перемену — хватило. Когда только туда пришел,
меня предупредили: «Дуров, смотри, не попадайся директору — она двухметрового
роста, с усами, поэтому зовут ее Таракан. Жуткая тетя, строгая и, чуть что,
исключит». Ну ладно, а, как вы знаете, когда попадаешь в новую школу, обычно
тебя проверяют...
— ...на вшивость...
— Ну да, и вот,
пробегая мимо, кто-то плечом меня — бух. Пришлось тоже его зацепить: он — шмяк.
Встал и на меня с кулаками, я дал сдачи: в общем, пошло-поехало! Целый класс на
меня накинулся, а я, надо признаться, умел за себя постоять: спиной встал сразу
к стенке и давай молотить кулаками. С толпой ведь драться очень удобно — важно
только самообладания не терять. Смотришь: та-а-ак, сейчас тебя будет бить этот,
а пока размахнется, ты его уже убираешь: об стенку бабах! — и соперника нет.
Конечно, губа висит, ухо оторвано, но все нормально — их же вон целый класс.
Вдруг слышу крик:
«Таракан! Таракан!». Все врассыпную, и появляется тетя — почему-то в белом
халате, как Эльза Кох, и с усами, как у Буденного (ну, может, чуток поменьше).
Вынула вот такенный ключ — даже не знаю, где она его взяла! — и стала бить им
меня по лбу, приговаривая: «В нашей школе драться нельзя».
Чувствую: шишка на лбу
набухает, а сам совсем о другом думаю. «Где там, — прикидываю, — сзади меня на
табуретке бочонок стоит с фикусом?», и только она устала, сказал: «Подожди».
Подставку из-под фикуса — хвать, к директрисе придвинул, ключ у нее выдернул,
на табуретку забрался и... «Дура здоровая, — закричал, — бить человека по
голове нельзя! Будешь знать, как детей обижать!» — и по лбу ее тем же ключом —
хрясь! У нее тоже шишка стала расти, а я продолжаю: хлоп, хлоп! — понимая, что
в этих стенах не задержусь. Лишь уморившись, оружие свое в окно выбросил, и
такая была у меня, как говорят сейчас, энергетика, что ключ этот пробил
насквозь два стекла — как пуля! — и улетел на улицу, а я спокойно поставил
фикус на место и пошел домой.
— Веселым вы пацаном
были!
— Родителям объявил:
«Я в этой школе уже не учусь — пойду в следующую».
«НУ, КТО ИЗ
БОЛЬШИХ АКТЕРОВ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ, ЧТО ИГРАЛ МОЛОДОГО ОГУРЦА?»
— Нынешней молодежи, я думаю, психология сорванца Левки Дурова вполне
понятна — куда труднее представить, что во время Великой Отечественной войны,
когда немцы вовсю наступали и стояли уже у стен Москвы, дети дежурили ночами на
крышах домов и тушили падающие с неба зажигалки...
— Вообще, когда
началась война, первое время казалось, что это какая-то игра. Страха не было —
он появился, когда завыли от полученных треугольничков-похоронок женщины, когда
осколки посыпались и стали передавать тревожные сообщения с фронта. Тут вот мы
поняли: что-то страшное происходит.
|
|
|
«В Москве было
четыре криминальных района: Марьина Роща, Измайлово, Сокольники и Лефортово».
Лева (в центре) с друзьями. Лефортово, 1944 год |
— Вам 10 лет было...
— Ну да. Потом все
равно привыкли... Немцы со своих самолетов каждый день зажигалки сыпали.
Бомбочка-то простенькая — размером сантиметров в 30, зеленый стабилизатор и
дюралевого цвета цилиндрик — весила килограмм, но пробивала крышу...
— ...и ваша задача в
чем состояла?
— Надо было ее
погасить. Сперва ошибались, в воду по привычке совали, а зажигалка —
температура-то колоссальная! — разбрызгивала кипяток, как бенгальский огонь.
Все моментально руки ошпаривали, лица, и только потом усвоили, как надо с ней обращаться.
Зайдешь со стороны стабилизатора, возьмешь спокойно — Господи! — и в песок:
«Т-ш-ш-ш!». Повоняет она и умрет. Мы, помню, соревновались, у кого
стабилизаторов больше. У меня набралось, по-моему, 47 штук, но до других ребят
далеко было. Немцы их тысячами бросали, а вообще, прилетали фашистские самолеты
странно: всегда в одно и то же время город бомбили.
— Низко летели?
— По-разному, и звук
мотора у них был не такой, как у наших. У наших: «Ж-ж-ж!», а у них: «У-у-у!».
Почему? Даже не знаю. Сидим на крышах, а сверху: «У-у-у!» — пошли на
Сокольники, «У-у-у!» — в сторону центра, к Красной площади, а эти над нами
летят — давайте за трубы прятаться. Вокруг бомбы взрывались, рядом сыпались
зажигалки...
Вы вот спросили, низко
ли они летали... Первое время совсем низко, потому что чувствовали себя в небе
хозяевами. Однажды вся Москва стояла, разинув рот, и смотрела, как средь бела
дня три самолета немецких за истребителем нашим гонялись. Играли с ним, как
кошка с мышкой: «Як» (он почему-то был красного цвета) уходит — они за ним,
бедняга туда-сюда — «мессеры» следом, а потом как ударили с трех сторон, он на
глазах у всех чирх! — разлетелся на маленькие кусочки, исчез. Было страшно,
потому что безнаказанность вызывающая...
Мы в Лефортовском
дворце тогда жили (извините за слово «жили»), но это был на самом деле дворец.
Там два таких полукруга — мы говорили «полуциркуля» — бывшие конюшни
екатерининские. Вы бы их видели: стены толщиной полтора метра...
— Из них коммуналки
сделали?
— Ну да: комнаты
вытянутые — бывшие стойла. У нас обитало 12 семей, и на всех был один туалет.
Однажды, когда сидели на крыше этого Лефортовского дворца, прямо над нами
неожиданно тройка вынырнула. Помню, я удивился, что шасси у них были почему-то
не убраны. Немецкие самолеты летели на нашем уровне, потому что здание было
довольно высокое (хоть и двух-трехэтажное, но по теперешним меркам
приблизительно с пятиэтажку). Идут они, короче, прямо рядом, на расстоянии пяти
метров, и вдруг вижу: из кабины немец — лицо у него такое красивое! — в упор на
меня смотрит, еще и глазом мне подморгнул.
|
|
|
С женой Ирой и дочерью Катенькой. «С
Ириной Николаевной мы с 54-го года вместе. Слава Богу!» |
— Кошмар!
— Пролетели и стали
набирать высоту, а потом: оп-па! — свалились в пике и давай бросать бомбы. На
Яузе парапет повалили — мы потом ходили глазеть! — и в госпиталь гарнизонный
попали — тот самый, знаменитый, имени Бурденко. Мы там, смешно сказать,
работали: перед ранеными выступали и даже при ампутации присутствовали — к
этому привыкаешь.
— Правду ли говорят,
что по Москве ходили тогда люди, покрытые двухсантиметровым слоем вшей?
— По Москве? Такого не
помню, а кстати, вы знаете, вши появляются не от грязи и не от отсутствия мыла
— это первый признак войны. Мгновенно они распространяются как в окопах, так и
у мирного населения, и объяснить этот феномен не может никто. Почему исчезают
голуби, понятно — их съедают, а вот эта мерзость откуда — не знаю.
Мне на глаза слой вшей
(за неэстетичность простите) попался в эвакуации. Мы с мамой однажды
разминулись — это было в Астрахани в речном порту, — и я шел по молу, который
весь шевелился, — они под ногами хрустели. Тело чесаться начало моментально.
Гляжу: солдатики фанерками вшей разгребают, делают жгуты из соломы, по кругу
раскладывают и поджигают. Пока солома тлела, они, сидя в чистом кружочке,
снимали гимнастерки и бутылкой их, как скалкой, проглаживали: «Тр-р-р, тр-р-р!»
— такой треск стоял! Тут же горел маленький костерочек, над которым бойцы потом
выжигали одежду, чтобы надеть уже чистую. Им же на фронт, а вши — это страшно:
сыпным тифом можно было заболеть мгновенно. Жуть! Зрелище было чудовищное, и я
его хорошо запомнил.
— «Моей первой ролью,
— признались когда-то вы, — был зад лошади». Пошутили?
— Нет, это же
Конек-Горбунок. В афише к спектаклю, правда, не уточняли, кто голову
изображает, а кто круп, — указывали только, что играют два человека. В
Центральном детском театре, где начиналась моя актерская биография, все обязаны
были через это пройти — такая вот дедовщина!
Этот театр в то время
в Москве гремел: уникальная труппа, потрясающая режиссура, замечательные
художники... У меня фотография сохранилась (по-моему, она есть в книжке,
которую вам подарю), так вот, на ней гости одного из премьерных спектаклей —
Утесов, Михалков-старший, Марецкая, Бабочкин. На других не менее известные лица
присутствовали, театр был очень знаменитый, но, помимо человеческих ролей, там
имелся и растительный репертуар.
— Нечеловеческий...
— Скажем так, хотя я,
например, этим горжусь. Ну кто из больших актеров может похвастаться, что играл
Молодого Огурца? Не какого-то задрипанного, пожелтевшего — в самом соку, и у
меня есть афиша, где указано: Молодой Огурец — Лев Дуров. Красиво же, правда?
— Вечно Молодой
Огурец!
— Нет-нет (смеется),
было написано просто «молодой», а какой Репейник из меня получился! Вот
придумали почему-то, что он с башкой красной ходит, а мне хотелось что-нибудь
эдакое, эротическое вставить. У Репья же жена Петуния была, и в конце спектакля
у них рождался репьеночек, так на сцену я выходил с куклой, которой красную
башку сам наклеил.
Кого только не играл:
пуделя Артемона, Козла из сказки (еще и пел: «Как у бабушки козел, у Варварушки
седой»), Говорящую тучку в спектакле «Цветик-семицветик»... Эфрос, который его
ставил, недоумевал: «Левка, ничего я не понимаю — какая еще Говорящая тучка?
Придумай хоть что-нибудь», — и я придумал.
Там же еще был полет
на высоте семь метров, поэтому я вырезал из фанеры облако с лейкой, сделал грим
бога Саваофа и утром к Эфросу пришел: «Анатолий Васильевич, сейчас покажу». Он
посмотрел и сказал: «Вот ты и будешь играть». Я-то надеялся, что роль кому-то
другому придумываю, а оказалось — себе: вот и летал. Там замечательный текст
был. Сперантова добрую волшебницу играла...
— Валентина
Александровна, да? Прекрасная актриса!
— Замечательная, и
потом, с ее голосом все детство прошло. Телевизоров-то практически не было,
только радио, и каждый день по нему объявляли: «Читает Валентина Сперантова».
Она всегда детские пьесы перед микрофоном исполняла: «Красный галстук», «Сын
полка», а в «Цветике-семицветике» в образе волшебницы ко мне обращалась:
«Здравствуй, Тучка». — «Здравствуй, мать! Что изволишь приказать?». Она
говорила что-то вроде: «Снега-града нам не надо. Ты листочки поскорей теплым
дождичком полей. По листочкам постучи, только нас не замочи». Я спускался,
поливал цветочки, и в конце у меня была коронная фраза — она и детьми, и
взрослыми на ура принималась. У власти тогда был Хрущев, и я говорил: «Полечу
теперь опять кукурузу поливать». Восторг в зале был невероятный, и под овации я
улетал.
«МИМО ВАЛЯЮЩЕГОСЯ
ПЬЯНОГО НЕ ПРОХОЖУ НИКОГДА — ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДОЙДУ, ПОДНИМУ, УСАЖУ НА СКАМЕЙКУ»
— 42 года вы служите в Московском драматическом театре на Малой Бронной,
были даже его художественным руководителем...
— Ну, это недолго —
три года.
— Тем не менее...
Насколько я знаю, в этот театр вас пригласил именно Анатолий Эфрос, которого вы
только что вспомнили. Вместе вы проработали очень долго...
— 27 лет. Из детского
театра пошли с ним в «Ленком», но «за неправильное формирование репертуара»
Эфроса с должности главного режиссера вскоре сняли, и мы совершили серьезный
для того времени демарш (при советской власти такого быть не могло!): 20
актеров бросили руководству заявления об уходе одновременно. Как только нам
сообщили, что Эфрос снят, мы — хоп! — не сговариваясь, честное слово. Знаете,
кто среди нас был: Ширвиндт, Державин, Гафт, Збруев, Каневский...
— ...неплохая
компания!..
— ...Адоскин,
Яковлева, Дмитриева, Сайфулин. Бросили заявления — и фьюить!
|
|
|
С Евгением Матвеевым
в картине «Доброе утро», 1955 год. Роль Яши в этом фильме стала первой
киноработой Льва Дурова |
— Эфрос сильный был
режиссер?
— Анатолий Васильевич?
Гениальный — я бы его назвал Пушкиным в режиссуре. Таких сейчас нет — из
нынешних никто сделать психологический разбор не умеет. Я со многими
режиссерами работаю, но не понимают они зачастую, о чем речь, не-а, а это
театральная первооснова, поверьте, и я не стал бы так говорить, если бы не был
в этом уверен. Я, правда, этим чуть-чуть владею, совсем не так, как Учитель.
— У вас за плечами 53
года в кино и — страшно сказать! — около 200 киноролей: такое количество даже
трудно себе представить...
— Ужас!
— Как это вам удалось?
— А я знаю? Однажды
прикинул: в один год снялся в пяти картинах и еще в театре играл. Понимаете,
можно все, что угодно: главное — нигде не дать слабину, чтобы, когда приезжаешь
со съемки в театр, никто не догадался, что ты с дороги, усталый. Этого
допускать нельзя, и то же самое, когда на съемку летишь: прибыл — будь
стопроцентно готов. Не начинай причитать: «Ой, я сейчас отдохну, полежу, а
потом и снимайте».
— Это и есть
профессионализм?
— Конечно.
— Вы как-то сказали:
«Я никогда не халтурил и никогда не проваливался» — «доброжелатели» не
поспешили вас опровергнуть?
— Нет, и хотя дежурных
ролей на самом деле у меня было много, провалов не случалось — честно! Работать
кое-как я бы не стал — себя постеснялся бы.
— У вас, по-моему,
есть беспроигрышный рецепт успеха: «Даже в самой комической роли, — признались
однажды вы, — я всегда ищу драму: это верный признак того, что роль удастся»...
— Ну да — это школа
Эфроса. Придерживаюсь ее не только на сцене, но и в жизни: например, никогда не
прохожу мимо валяющегося пьяного — обязательно подойду. Почему? Да потому, что
я же не знаю, почему он пьет, почему дошел до состояния нечеловеческого —
может, судьба у него горькая... Ты хоть чуть-чуть его поддержи: подними, усади
на скамейку, спроси: «Вы сами дойдете домой или вас проводить?». Не бойся, что
испачкаешь кофту или дубленку дурацкую — Бог с ней!
Так и каждую роль надо
играть — искать в ней драматизм. Почему человек именно таким стал? Почему оказался
способным на мерзкий поступок? — эти вопросы надо задавать себе, даже когда
(дурацкое слово!) препарируешь негодяя. Вот в чем драма, предположим, Тибальта?
Существуют Ромео и Джульетта — университетская, говоря современным языком,
молодежь — милая, интеллигентная, образованная, и есть Тибальт, который
поддерживает многолетнюю клановую вражду. Он даже сам не знает, почему семьи
Монтекки и Капулетти собачатся, — ему это не важно, главное для него, чтобы
что-то варилось, — совсем как сейчас в нашей жизни. Ты думаешь: «Ребята, зачем
это вам?», а вот кому-то ведь на руку дрязги, конфликты, водичка мутная...
— Людям, чьих фамилий
мы не знаем...
— Ну да, но мы-то с
вами отлично понимаем, зачем понадобился Афганистан, зачем сегодня нужна Чечня.
Кому-то выгодно, чтобы варево в этом котле бурлило, хотя мы, как нормальные
люди, недоумеваем: «В чем дело? Какой интернациональный долг? Чего я
Афганистану должен?» — и я, хоть и плохо, простите, учился, очень хорошо
понимаю, что географически нам это не близко...
— Где Афган, а где мы!
— Что я забыл там, на
Востоке? Кому-то в том краю что-то понадобилось, и за это никто не ответил, а
когда такой Тибальт сам нарывается и его живот пронзает меч, он в
растерянности: как это? Он-то считал себя стальным, а оказывается, тоже живой и
ранимый. Вот и кровь, и жизнь утекает по капле. В этом драма, потому что
человек в последнюю секунду осознает: он такое же уязвимое существо, а не нечто
суперменистое.
«ГРУЗ 200» —
АБСОЛЮТНО БЕЗНРАВСТВЕННОЕ КИНО»
— Достаточно часто вижу вас на экране и должен заметить, что всем вашим
героям веришь беспрекословно, и у каждого из них есть характер. Буквально
позавчера, щелкая пультом телевизора, в 153 раз совершенно случайно зацепился
на одном из каналов за «Семнадцать мгновений весны», где вы снялись в роли
Клауса. Казалось бы, мерзавец, подлец, но как убедительно и как точно сыгран!
— Сперва я хотел
отказаться, дескать, зачем мне такая мразь? Что может быть хуже, чем
провокатор, доносчик...
— ...еще и такой
циничный...
— ...который входит в
доверие, завоевывает чью-то симпатию, вытаскивает человека на откровенность, а
потом отправляет на тот свет! Потом подумал: «Все-таки Лиознова — художник
серьезный, надо отказ свой аргументировать». Стал, одним словом, сценарий читать
и понял, в чем дело: мы с вами такое явление и в своем окружении знаем.
— Еще как!
— Клаус же
словоохотлив, болтун — вот Штирлиц и спрашивает его: «А писать вы не
пробовали?». У Юлиана читаю: «Нет!» — и думаю: «Оп-па, тут надо сделать большую
паузу. Буквально зрители не поймут, но что-то повиснет». Я делал паузу не очень
уверенную: типа хотел стать писателем, да не хватило таланта, и тогда
он...
|
|
|
С Анатолием Эфросом. «Анатолий
Васильевич — гениальный. Я бы его назвал Пушкиным в режиссуре — таких сейчас
нет...» |
— ...решил
реализоваться в другом...
— Ну, что-то вроде:
ах, вы меня не признаете? По-вашему, я бездарен, да? Не захотели меня печатать?
Ну, я вам покажу. Понимаете, один человек говорит: «Ну, не стал я писателем или
артистом, и ладно — раз нет таланта, пойду на завод токарем» — и счастлив в
этой профессии, а другой желчью исходит: «За это я вам отомщу!».
— Лев Константинович,
годы идут, кинематограф совершенствуется, а мы по-прежнему смотрим старое кино,
и зачастую кажется (во всяком случае, мне), что оно лучше, эстетичнее, чище,
чем новое. У вас такого ощущения нет?
— (Задумчиво).
Есть. Знаете, когда-то я тоже в какой-то степени был хунвейбином и не признавал
всех этих «Кубанских казаков». Какое утешительное, думал, кино — с ума сошли!
— Какая безобразная
лакировка действительности!
— Ну еще бы — стране в
это время жрать было нечего, люди с голоду помирали, а тут груды фруктов и
овощей, которые собирали по всем окрестным селам, чтобы столы ломились...
— Розовощекие, красиво
одетые казачки на весь экран...
— И не стыдно, я
возмущался, пускать в глаза пыль, такую ахинею снимать, а сейчас смотрю: нет,
что-то в этом таки было.
Я приведу пример.
Однажды Сергей Бондарчук смотрел у нас «Брата Алешу» — по «Братьям Карамазовым»
Достоевского. Спектакль был очень жесткий, так скажем: я играл там
штабс-капитана Снегирева — это моя лучшая роль в театре. Бондарчук, как вы
знаете, человек был красивый, большой — пришел за кулисы мрачный, сел. Мы
спрашиваем: «Сергей Федорович, что, не понравилось?», а он: «Да нет, спектакль
гениальный, но, братцы, так же нельзя. Нож засадили в сердце и держите — ну
вытяните его на секунду, елки-палки, это же вынести невозможно». В ту минуту,
помню, меня мысль пронзила: «Ну да!». Так вот и с этими «Кубанскими казаками»:
и так у людей напряженная жизнь была (не жесткая, а жестокая), а мы что же —
давайте еще на экране добавим?..
— ...чтобы все надежды
убить...
— В том-то и дело! Я
же и сам снимался в этих, как их называю, полуцветных, полумузыкальных,
полухудожественных картинах. То экскаваторщика помощник, то комбайнера, но
персонажи мои симпатичные, и я глазастый такой, курчавый. Нет уж, пусть ленты
наивные, но в них изначально добро заложено, и никуда от этого не деться. Какое
бы, извините, дерьмо по сюжету ни снимали, а все равно финал оптимистичный...
— ...и какая-то мораль
присутствовала...
— Ну конечно.
— Лев Константинович,
а как вам нынешние картины? Недавно вот снова показали по телевидению «Груз
200» Балабанова — чересчур жестко, натуралистично, но чертовски, на мой взгляд,
талантливо...
— Мне плохо на этой
картине стало — по-моему, абсолютно безнравственное кино. Мне просто, извините (я
извиняться иногда буду, ладно?), как члену Академии кинематографии присылают
пакетами диски, которые следует посмотреть, чтобы оценить и фильм, и сценарий,
и роли мужские. В кинотеатр же не успеваешь ходить...
— Вы посмотрели «Груз
200» от начала до конца?
— Да, и везде 20 со
знаком минус поставил, причем делал это злобно.
— Подождите, но
режиссерская работа ведь классная?
— А мне, когда кино
безнравственное (заводится), плевать, какая она. Когда, извините,
девушку насилуют бутылкой от вина, для меня все кончается — это невозможно! — и
когда вскрывают цинковый гроб с афганцем, вытаскивают оттуда труп и бросают к
девушке на кровать, душит протест, и мне уже все равно, талантливо это снято
или же нет.
— Приходится слышать,
что у Балабанова не все с головой в порядке...
— Ну, Чацкого тоже
сумасшедшим считали — этот момент чреват... Как с головой у него, не знаю, но с
совестью явно что-то не то...
— В новое российское
кино вы в отличие от подавляющего большинства ровесников вписались блестяще, а
в сериале «Бандитский Петербург» (кстати, неплохом, на мой взгляд) сыграли
неожиданно роль киллера и сделали ее по-человечески убедительной, яркой. Вам
это интересно было?
— Да, безусловно.
Все-таки в такой ипостаси я никогда еще не кувыркался, да и киллер-то не
простой, он ловит в оптический прицел совсем уже нелюдя — Антибиотика.
Убийство, конечно же, есть убийство, и киллер есть киллер, но охотится он за
человеком совсем страшным — фактически зверем, так что моральное оправдание там
все-таки было.
|
|
|
Лев Дуров (сидит),
Андрей Миронов (справа), Юлиан Семенов (в центре) и другие в Ялте, 80-е годы |
— Вы понимали
мстителя, образ которого создали?
— Понимал, и
достаточно хорошо. Есть же вот, скажем, «Ворошиловский стрелок», которого
Михаил Александрович Ульянов блестяще сыграл...
— ...и фильм получился
прекрасный, правда?
— Мало того, если бы
довелось, я тоже таким «Ворошиловским стрелком» стал бы — не задумываясь,
пришлепнул бы подонков.
— Сколько лент,
столько и мнений: недавно вот Андрей Панин и Тамара Владимирцева сняли фильм
«Внук Гагарина»...
— Ой, замечательная
картина — Панин-старший там потрясающий!
— Прекрасный актер!
— Господи, как он
играет! Кстати, вы знаете, почему ее не выпускают на экран?
— Дочери вроде
против...
— Да не дочери —
сестры Гагарина: посчитали, что это надругательство над памятью Юрия
Алексеевича, и через суд добились запрета на использование его фамилии.
Какие-то оценки наивные — то же самое, что с памятником Шукшину в его родных
Сростках было, где он сидит босиком на земном шаре. Когда его мама это увидела,
заплакала: «Что же, у Васеньки сапог и ботинок не было? Нет, ни в коем
случае!». Скульпторы мнение старушки уважили и поставили памятник после ее
смерти. Наивно, наивно...
— В чем же проблема у
«внука» Гагарина — в том, что оказался негритенком?
— Дело не в этом — там
изумительный парень, маленький мальчик, играет детдомовца, который придумал,
что у него был знаменитый дед. Его спрашивают: «А почему ты уверен, что внук
Гагарина?», и, поскольку этот детдомовец еще и матерится, предупреждают:
«Только без мата! Только без мата». — «Ну, — отвечает мальчонка, — дед-то по
разным странам ездил: и в Африку в том числе, а там бабы на него вешались...».
Ему опять: «Только без мата!». Негритенок долго ищет нужное слово: «Он их
всех... говоря современным языком, перетрахал, и вот тут-то родился я». Это,
по-моему, так чисто, смешно, а сестры восстали: мол, надругательство над
памятью. Придрались к одной фразе — ой, Боже, и смех и грех!
«НАС БЫЛО ТРОЕ:
Я, БУДЕННЫЙ И ВОРОШИЛОВ. ПИОНЕРЫ, КО МНЕ!»
— Вы относитесь к той категории артистов, которые сполна испытали и
продолжают испытывать на себе настоящую, не придуманную, народную любовь...
— Ой, да ладно (смущенно),
ну хорошо...
— Согласитесь: таких
всеобщих кумиров немного — их можно пересчитать по пальцам...
— Дима, у нас один
пьяный всегда кричал... Правда, у него был орден Красного Знамени — старый, при
банте, и он, как примет на грудь, командовал: «Нас было трое: я, Буденный и
Ворошилов. Пионеры, ко мне!». Так вот, нас было...
— Какие самые яркие,
особенные проявления народной любви вы испытали?
— Когда люди
улыбаются, подходят на улице, приятно и славно, и когда просят автографы,
всегда останавливаюсь, даже если очень спешу, — а как же иначе? К тебе же с
приветом идут, а не с чем-то другим. Есть некоторые актеры, которые всех
отфутболивают: «Я устал, отойдите, не подходите!» — этого я не понимаю.
— Да, были люди в ваше
время!.. Я видел старую выцветшую уже фотографию, на которой копающие картошку
Ефремов, Табаков, Евстигнеев, Борисов и вы...
— Есть такая, но мы
там не картошку копали, а строили московский университет — березы сажали.
— Вот компания!
— Мы, правда, и в
колхоз студентами ездили, и есть фотография, где я с Олегом Борисовым на поле
картошку гружу. А как же — это все было!
— Я не случайно об
этом вспомнил — вы как-то сказали, что нынешние молодые артисты по сравнению с
тем поколением аристократов — настоящие пэтэушники. Не погорячились?
— Нет, и от слов этих
не отказываюсь. Тогда была действительно аристократия — Ливанов, Тарасова,
Грибов, Анненков... Своя у Вахтанговского театра, у Малого, у МХАТа...
— Ее сейчас меньше
стало или теперешние актеры просто другие?
— Это как в жизни:
была аристократия, а потом ее всю выбили, и где она? Исчезла потихонечку:
настоящую перестреляли, остатки вымерли. Великих и замечательных уничтожили, а
потом пришли разночинцы, мы, и стали бороться за новую правду. Поступали вроде
бы правильно, но многое, как водится, и наваляли. Почему? С одной стороны,
Эфрос, Любимов, Ефремов, которые выступали как корифеи и создатели трех новых
направлений, эту правду нашли, а с другой...
Мы что, собственно,
сделали? Сорвали занавес, сняли с театра ореол таинственности. Свободная
репетиция — заходи кто угодно, сидите, смотрите, и тем самым многое упустили.
Когда исчезла грань между сценой и залом, когда публика решила, что мы — свои,
это было неправильно, и дело не в том, что я против панибратства. Это ничуть не
унижает актеров и не делает лучше зрителей, но все равно творческая дистанция,
таинственность и загадка в театре должны быть обязательно.
Мы это убрали, а
сейчас пришло ПТУ — им вообще все до фонаря. Я вот еду недавно сниматься в Киев
с молодым московским актером, сижу и листаю сценарий, потому что концы с
концами не связаны...
— ...и текст наверняка
учите...
— Прилетел, ко мне
сразу подходят: «Через час уже в кадр», и вот я сижу с ручкой, кропаю, а он
меня спрашивает: «А вы что, перед съемкой читаете текст?». — «Вот поэтому, —
отвечаю, — у нас сериалы такие». — «Какие?». — «А вот такие», — говорю и
пальцем на него показываю. Он даже не понял, что я хотел сказать. Что вы
хотите: пэтэушник, хотя ПТУ — это же хорошо...
— Попробуй сейчас
специалиста найди!
— Потому что
профтехучилища разогнали — ни слесарей в результате нет, ни токарей, ни
маляров, ни плотников. В актерском деле, поймите правильно, я этим словом
обозначаю снижение профессиональных навыков. ПТУ — это ученик, и нынешние — они
все ученики, подмастерья, все на одно лицо, особенно женщины. Не хочу никого
оскорбить — может, такие требования время диктует?
— Это пройдет,
наверное?
— Вот если вам
показать то, что сегодня снимают, а потом спросить: как фамилия этой актрисы?
Ручаюсь, вы не ответите, и я вряд ли.
— Раньше мы знали: это
Никулин, а это Миронов, там Ширвиндт, здесь Дуров...
— Доронина,
Васильева... Ну конечно! В том-то и дело...
«АНДРЕЙ МИРОНОВ БЫЛ ВЕСЬ ИЗРЕЗАННЫЙ — ПОДМЫШКИ ИСПОЛОСОВАННЫЕ, И ЕГО МАТЬ ВСЮ
ЖИЗНЬ РАБОТАЛА НА ЛЕКАРСТВА»
— Была еще, очевидно, беззаветная преданность и любовь к профессии — вот вы
когда-то рассказывали мне, что Андрей Миронов снимал после спектакля рубашку, а
она была вся в крови...
— Это мы «Продолжение
Дон Жуана» играли. Он весь изрезанный был — подмышки исполосованные, и Марья
Владимировна — Миронова-то! — всю жизнь работала на лекарства. Какое-то жидкое
стекло — тогда же вообще ни черта не было! — за границей ему покупали.
— Миронов страдал
жутким фурункулезом?
— У Андрюши был
какой-то неправильный состав крови (я ничего в этом деле не понимаю), но
никогда, ни разу он не попросил: «Лева, поосторожней!». Спектакль был физически
прессинговый: в конце я его бил, хватал и толкал в зрительный зал, и если
иногда, так сказать, давал слабину и отворачивался, он начинал: «Лева, а почему
ты меня не швырнул в зал?». Я же не мог сказать, почему, но в следующий раз
вынужден был опять молотить его без всякого снисхождения.
После этого Андрюша
приходил в гримуборную, снимал черный бархатный кафтан, под которым белая
рубашка была вся в крови. Душ, одеколон... В кейсе у него всегда лежала чистая
накрахмаленная сорочка. Он одевался: «Левочка, цем-цем! Пока-пока!» — как будто
и не было ничего. Это повторялось каждый спектакль, но ни разу он не допускал
даже намека на халтуру.
— Мы говорили об
истинных интеллигентах, и думаю, вам повезло: вы их застали...
— Счастье!
|
|
|
Лев Дуров — Дмитрию Гордону: «Когда
люди улыбаются, подходят на улице, приятно и славно. И когда просят автограф,
всегда останавливаюсь, даже если очень спешу...» |
— Опять-таки жили чуть
ли не в одном доме с Рихтером...
— Ну, не в одном доме
— рядом. Кстати, только вчера говорил с его племянником Дмитрием Дорлиаком — он
в Париже живет, а так как Митя работал в нашем театре, дядя Слава стал для нас
своим человеком. Он был даже — такую говорю наглость! — нашим тапером — у
Митьки на дне рождения, когда начинались танцы, дядя Слава садился и начинал
играть: мы под Рихтера танцевали. Что вы, он был поразительный!
Однажды пришел молодой
джазист-пианист, и Митька к нему: «Поиграй-ка для нас!». Музыкант ужаснулся:
«Ты что!? Как же я при твоем дяде посмею?», а он все не отстает: «Ну, поиграй!»
— дядька, мол, где-то на кухне сидит, чай пьет... Тот сел за инструмент, взял
несколько аккордов — влетает Рихтер. «Кто? — спрашивает. — Что такое? Ну-ка,
ну-ка! Господи, потрясающе! Нет, я так не умею. Какая музыка изумительная! А
можно я тоже попробую, рядышком с вами сяду?». И давай они в четыре руки
какую-то джазовую мелодию наяривать. Рихтер в восторге был: «Боже, как это
хорошо! Как интересно!».
— Дистанцию он не
держал, свысока с собеседниками не разговаривал?
— Ой, свысока! Во
дворе как-то встречаемся, идет снег, и вдруг он снимает кепку, и снежинки на
его большую, извините, башку падают. У него же череп был грандиозный...
— ...мощный...
— Мощнейший! Я с
опозданием шапку стянул и стою, с ноги на ногу переминаюсь. «Святослав
Теофилович, — прошу, — наденьте, пожалуйста, кепку». — «Что вы, я вас так
уважаю!». Меня!..
— Без комментариев. Вы
и Раневскую ведь застали...
— Однажды меня
пригласили на прогон спектакля «Дальше — тишина», и я сидел в зале один.
— Она же там с Пляттом
играла...
— Два корифея,
грандиозные совершенно! Жду, короче, начала, и вдруг из-за кулис ее голос: «Там
кто-то сидит — это ужас какой-то! Дуракам полработы не показывают — Слава, я не
пойду». Плятт ей: «Фая, ну успокойся». — «Нет, ни за что! Говорю же, дуракам
полработы...». Ростислав Янович продолжает ее увещевать: «Это Дуров, артист
Эфроса». — «А-а-а, слыхала, слыхала... Да, по-моему, он не дурак. Ну ладно,
пойдем сыграем для него, что ли». Сидел я, скукожившись...
— ..фантастика!..
— ...потом отправился
за кулисы и спрашиваю: «Можно зайти?». Плятт заговорщицки: «Она тщеславная.
Зайди, зайди, Левочка». Я заглянул в гримерную: «Фаина Георгиевна!..». Она:
«Нет, это было ужасно, зачем вы сегодня пришли?», но говорила кокетливо.
P. S. За содействие в
организации интервью редакция «Бульвара Гордона» благодарит киевский ресторан
«Централь».